Хижняков Юрий Александрович
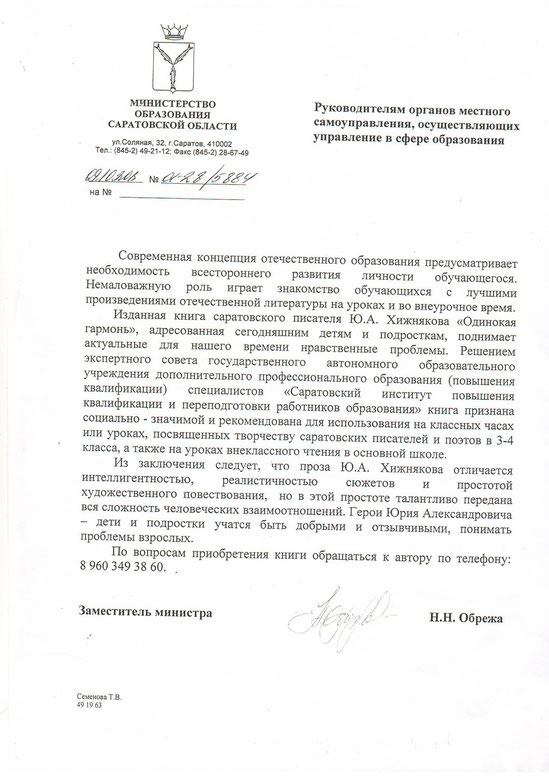
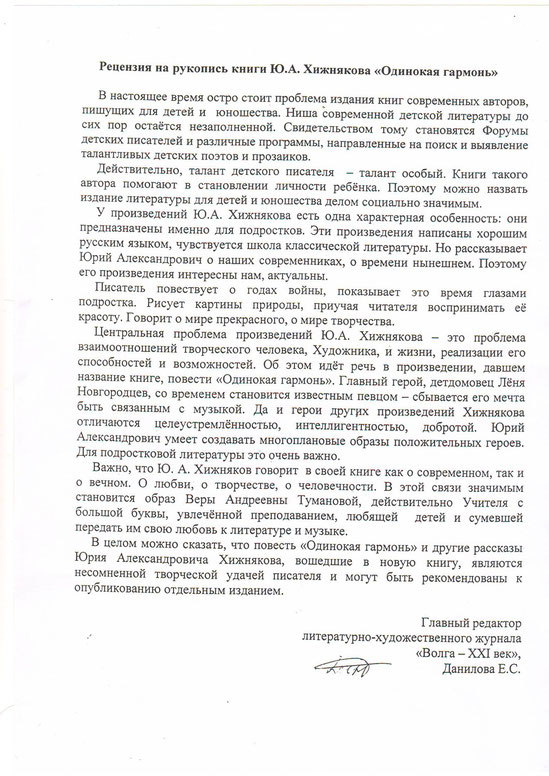

Светлой памяти
учителя русского языка и литературы,
Юлии Ивановны Абросимовой,
посвящаю
Одинокая гармонь
Повесть
Глава первая
1.
– А сегодня мы рассмотрим рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Муму», который я читала вам на прошлых уроках! — с какой-то торжественностью объявила Вера Андреевна.
Она раскрыла книгу, с любовью разгладила нужную страницу. Весь класс сразу притих: стало слышно, как о стекло забилась жужжащая муха, под окном зашуршал дворник, подметая листья, а в футбольные ворота мальчишки с ликующими криками забили очередной гол.
— Тема нашего урока: «Мораль и нравственность в творчестве писателя». — Учительница подошла к окну, плавно прикрыла форточку. — Как вы думаете, ребята, почему Герасим утопил Муму? Что заставило его это сделать?
Из-за стола, неуверенно протянув руку, поднялась светловолосая, небольшого роста девочка с конопушками на носу.
— Пожалуйста, Коноплева, ответь нам, — подбодрила учительница.
— Герасим утопил Муму, потому что барыня не любила эту собачку. Она ее чуть не укусила, не давала спать и лаяла, — произнесла девочка тоненьким голоском.
Многие из школьников рассмеялись наивности ответа.
— Правильно, Настенька, — поддержала Туманова, одобрительно улыбнувшись. — Все так думают?
— Да, — хором ответили второклассники.
— А скажи, Настя, барыня приказала ее утопить или так решил сам дядя Герасим?
Настя запнулась, подыскивая нужные слова:
— Она этого не говорила, но дядя Герасим сам догадался.
— Как вы считаете, ребята, жалко было топить собачку? Ведь она же ни в чем не виновата?
— Жалко, конечно, жалко... - раздалось из разных уголков класса.
— А как вы думаете, — вновь спросила учительница, — почему Герасим ушел из барского дома к себе в деревню? Из рассказа видно, что барыня его ценила и уважала.
Опять встала Настенька:
— Дядя Герасим ушел, потому что пожалел собачку… А барыня его потом все равно бы наказала.
— А если бы барыня не умерла и потребовала, чтобы Герасим возвратился к ней работать, согласился бы он на это? Садись, Коноплева, если затрудняешься с ответом.
В классе вновь стало тихо. Никто не осмеливался поднять руки. Правда, ответа на поставленный вопрос Туманова и сама не знала. Она просто решила провести свободный урок с классом, чтобы проверить сообразительность детворы.
Вдруг Леня Новгородцев вспыхнул и, видно, стараясь выручить Настю, поднял кулачок с зажатой в нем синей авторучкой:
— Мне кажется, что дядя Герасим не вернулся бы к этой барыне. Барыня была очень избалована и не терпела Муму. А дядя Герасим жил без семьи, и песик был для него самым близким другом.
— Правильно, Леня. Ну, а если бы за ним пришли? Как бы он поступил?
— Мне кажется, он бы не дался, раскидал всех. Он был сильный. А с собой что-нибудь сделал. Не стал жить дальше…
Мальчик вздохнул и длинными, музыкальными пальцами прижал к голове слегка оттопыренные уши, будто хотел их выпрямить.
— Почему, Леня?
— Из-за протеста и… из гордости.
Новгородцев сел на свое место у окна, поглядывая на Коноплеву. Заметив это, Настя покраснела.
Неожиданная мысль, высказанная Леней Новгородцевым, по сути, еще почти ребенком, удивила Туманову. Мальчик резко отличался от своих погодков умением рассуждать и сопереживать. Он сумел разобраться даже в том далеком прошлом, а это было не под силу иному взрослому.
— Ты молодец, Леня, — на переменке похвалила его Вера Андреевна.
2.
Её любили все — от мала до велика. Новая учительница, приехавшая из Ленинграда, пришлась по душе и директору школы Евгению Матвеевичу Столярову, уже собиравшемуся на заслуженную пенсию, и преподавателям, и жителям поселка, расположенного вдали от тракта, как говорили, «у самого черта на куличках».
Веселая, статная, с черной косой за спиной, она могла нужными словами примирить две враждующие стороны, а это всегда непросто, поддержать хворых, поделиться своей скудной учительской зарплатой в трудное, перестроечное время.
Особенно она нравилась Петру Тимофеевичу Сковородникову, хозяину дома, ещё крепкому старику с белой, до пояса бородой. Тот души не чаял в своей постоялице, а с её появлением в доме сбрил даже бороду и усы, что явилось настоящим событием для поселка и вызвало немало кривотолков и пересудов.
Полюбилась она и Лёнечке Новгородцеву, второкласснику из детского дома, вихрастому пареньку небольшого роста. Мальчик был добр и чрезмерно доверчив. Когда Вера Андреевна читала сказку про маленького музыканта, то всякий раз Леня проникался жалостью к бедному пастушку, на глазах его невольно наворачивались слезы и начинало дрожать что-то внутри. Его душа постепенно размягчалась как глина, из которой лепят разные игрушки.
«Неужто под звуки свирели затихали даже соловьи, пригибались к земле травы и переставали мычать коровы?» — с недоверием думал он, забывая о том, что это лишь сказка. «Вот бы и мне научиться так хорошо играть на гармони!» — мечтал он. Гармонь с белыми пуговками, поблескивая розовым перламутром, стояла на подоконнике возле клубной сцены. И всякий раз, проходя мимо двухрядки, Леня невольно замирал, укорачивая шаг…
3.
Сковородников давно овдовел. Стариков на селе становилось все меньше и меньше. Большинство его ровесников уже лежало
на погосте — обрывистом берегу реки среди кустов сирени и наполовину засохших деревьев, подпираемых бойкой порослью березок. Их никто не сажал. Казалось, они появились здесь по собственной воле, чтобы подставить умирающим кленам и рябинам свои молодые, крепкие плечи.
Многих стариков забрали дети, но Петр Тимофеевич коротал свой век в одиночестве, не поехав к единственной дочери в Подмосковье. В письмах она не раз звала отца к себе, но Сковородников менять свой образ жизни и родной уголок, затерявшийся на самом краю России, не решался.
Тайга, бескрайняя, молчаливая начиналась сразу за поселком, она затягивала, манила к себе еще не познанными местами, кормила и поила. Одних грибов да ягод невпроворот и дичи не счесть. Охота с рыбалкой были любимым занятием, отдушиной, а после смерти жены он и вовсе пропадал на зимних стоянках, неделями не появляясь дома.
К старости Петр Тимофеевич погрузнел, остепенился, дальняя охота ему стала тяжела — он теперь рыбачил поблизости, у сложенного шалаша. Ему нравилось встречать утреннюю зарю на берегу реки. В предрассветной мгле низко над водой и камышом белым длинным шлейфом тянется туман. Кажется, что его широкий хвост кончается у Зеленого Мыса, на стремнине, за несколько километров отсюда.
Над головой едва покачиваются верхушки сосен. Ветерок спускается все ниже, гонит розовую рябь по воде, освещенной еще не видимым солнцем. Но чувствуется, что оно близко и вот-вот взойдет красным полукругом над кручей противоположного берега. Туман розовеет, постепенно рассеивается, уходит, отступая перед натиском дневного светила.
Выскакивая на поверхность воды, играет лещ. Он шлепает хвостом и широким боком, вновь уходя в глубину. В такую минуту с волнением бьется рыбацкое сердце. Ждут поклевок донные удочки. Стоит тишина, лишь где-то поблизости сонно прочирикает воробей. Но вот на одной из донок задергалась леска и зазвенел, наконец, первый колокольчик…
День проходит быстро. Сковородников чистит рыбу, разжигает костер. Потрескивают сучья, трассирующими пульками летят в таежную темноту шипящие угольки. Булькает в котелке уха, сладкий запах щекочет ноздри.
Ужиная при свете костра, обжигаясь горячим чаем, Петр Тимофеевич вновь вспомнил о предложении дочери переехать к ней: «Еще неизвестно, как там все сложится, а здесь я родился, тут прошла-пробежала целая жизнь, здесь похоронены дед с бабкой, отец с матерью и жена… Целый город могил! И куда я от них? Тут и мне место уготовлено, — с горечью усмехнулся старик. — … А хорошая она была, моя Аннушка. Плохого слова от нее не слыхал. Все терпела, бедная. И ласковая была…» — вспоминал рыбак, вытирая кулаком мокрое от слез лицо.
Прежде, чем посвататься, долго присматривался к этой голубоглазой красавице, в руках которой все горело и спорилось. Вместе дружно отстраивали дом, поднимали хозяйство, растили дочь, работали — Анна на ферме, он в бухгалтерии. Казалось, ничто не могло помешать их семейному счастью. А на пятнадцатый год совместной жизни нагрянула беда: стала чахнуть его Анюта, угасать на глазах. И где только не лечилась, каких операций не переносила — спасти жену не удалось.
Эти годы он бережно ухаживал за всеми могилками, менял выцветшие фотографии, вырывал лишние травинки, сажал в опалубку живые цветы. А выпив стопочку водки, вздыхал, неторопливо закусывал и с чувством исполненного долга уходил работать на собственное подворье.
Близких людей рядом не оказалось, и свое душевное тепло Петр Тимофеевич отдавал теперь молодой учительнице. Обустроившись в боковушке, Вера Андреевна сама вызвалась помогать по хозяйству: кормила кур и поросенка, готовила, стирала, зимой топила печь, а летом пропадала в саду и огороде. Она работала с охоткой, с огоньком, не жалуясь ни на летнюю духоту, ни на мух и комаров, повязывалась платком, как это делали поселковые бабы.
Старику нравилось встречать ее после школьных занятий на пороге своего дома, подавать на стол горячий самовар, жареный картофель, яичницу и, сидя напротив, расспрашивать о новостях.
— А ты правильно рассудила, дочка, что из Питера уехала. Уж не знаю, что там у тебя стряслось, но у нас здоровье свое поправишь. Воздух тут - дышишь не надышишься, воду пьешь - не напьешься. А в реку зайдешь по колено, так увидишь, как рыбьи мальки в голые ноги тычутся. Да и раки, тебе скажу, нашу воду уважают. А их не проведешь…
Вон мальчонки балуются, по норам шарят, много их набирают…
— И не боятся, Петр Тимофеевич? Больно же, если рак клешней уцепит…
— Так наши мальцы к этому делу привычные, - улыбнулся хозяин дома…
Ведя беседу о школьных буднях, о совхозных проблемах, о перестройке в стране, Петр Тимофеевич быстро загорался и словно молодел.
— Эх, Веруня! Встретить бы тебя пораньше, годков эдак на тридцать! — восклицал он, топнув сапогами по скрипящим половицам.
— А что тогда было бы, а, Петр Тимофеевич? — слегка заводя его да посмеиваясь, спрашивала постоялица.
— Узнала бы, — хитро отвечал Сковородников. — Теперь-то не скажу. Ни за что…
Эти люди тянулись друг к другу, а недомолвки и незамысловатые шутки, понятные только им одним, облегчали жизнь.
4.
На поселок опустился погожий теплый вечер. Все лавочки в сквере возле памятника погибшим в войну односельчанам были заняты парами. Светло-желтая луна, незаменимая подруга всех влюбленных, «посматривала» на них. Ровные квадраты клумб источали запахи роз, фиалок и хризантем. Местный гармонист, разминая пальцы, перебирал лады инструмента, нащупывая свою, только ему необходимую мелодию. Но вот наконец музыкант остановился на любимой песне, уверенно заиграл, и она тотчас заполнила собою все пространство перед клубом.
Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов.
Зачем вы, девочки, красивых любите,
Непостоянная у них любовь…
Гармонисту взялись подпевать Тоня с Нюрой — засидевшиеся в девках молодухи, да так хорошо и складно, что было приятно слушать их красивые голоса. Генка Дроздов сидел один. Что-то тоскливое звучало в этой песне. Завидуя влюбленным парочкам, он думал о Вере Андреевне. Представилось миловидное лицо, нежный овал подбородка, длинная коса, глаза, похожие на две продолговатые сливы.
Ему вспомнилось, как изучающе долго и неотрывно разглядывал ее Витька Мотыль, и потому волноваться причина была: «Уведет ведь, опередит, дьявол..» — мелькнула тревожная мысль.
Решившись, Дроздов встал со скамьи и направился к дому Тумановой. Пока он шел к ней, музыкант сменил мелодию и теперь уже рассказывал всем про «Одинокую гармонь».
«Снова замерло все до рассвета...» — старательно подтягивали ему Тоня с Нюрой. Девушки сидели, тесно прижавшись друг к дружке, слегка раскачиваясь. И в их глазах и склоненных к земле фигурах чувствовалась тоска по любимому человеку, быстро уходящей молодости. «...Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь...» — выводили они томными голосами.
— Тебе чего, Генка? — откликнулся на стук в окно Сковородников.
— Мне бы Веру Андреевну повидать…
— А зачем она тебе? – неласково спросил хозяин дома в открытую форточку.
— Так нужно, Петр Тимофеевич, — в Генкином голосе звучали просящие нотки.
— Знаю я ваше «нужно»… Ты вначале на работу устройся да обоснуйся как следует. Нечего у мамки на шее сидеть. Потом и женихайся. — Училка-то — дама серьезная, не пара ты ей, Генка…
Сковородников огладил крупной пятерней несуществующую бороду, провел по бывшим усам, степенно добавил:
— В райцентр по делам она уехала. Ты вон Нюрку или Тоньку пригласи. Неужто мало на селе других девок?
Дроздов промолчал. Он понял: от старика ничего не добьешься — и, раздосадованный, злой, нехотя поплелся назад.
«Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь?» — словно бы с упреком звучала песня.
Генка не знал, что с ним случилось. В первый раз, увидав незнакомку, он даже застыл на месте, в его груди что-то екнуло. Новенькая стояла у клубной стены, неторопливо перебирая толстую косу. И была она какой-то своей, открытой, словно радостью светилась изнутри. А от ее гордой осанки, нежного изгиба белых плеч и высокой шеи его даже в жар бросило. И хоть в поселке девчонки были, но хотелось видеть и слышать лишь ее — единственную. Почему это происходило — Генка не ведал. Да, наверное, и никто бы толком не объяснил.
Влечет к ней какая-то неведомая сила… и все тут. А попробуй, потягайся с ней — этой силой — наверняка проиграешь. И нет ничего слаще, как в своих мечтах заглянуть в большие, черные очи, поцеловать мягкие, податливые губы, прижать к груди дорогого человека, словно посланного тебе самим Богом...
5.
Витька Мотыль, рослый, двадцатитрехлетний крепыш вечером в клубе получил по зубам. И даже не раз. Такого ещё не было, чтобы Мотыля завалили. И кто завалил-то? Генка Хиляк, прежде болезненный мальчик, над которым в школе издевались все, кому не лень, а теперь бравый воин, отслуживший в армии.
Домой Мотыль пришел опозоренный, постепенно осознавая, что его первенство на селе поколебалось. Его побили на глазах у всех, да еще при новой училке.
Он пошевелил припухшим языком, умылся, долго своё лицо разглядывал в осколке зеркала: под левым глазом назревал синяк, верхняя губа набухала. В голове шумело, словно в сельской кузнице.
…Вспомнилась вчерашняя ссора. Подвыпивший Витька с двумя приятелями и смазливой Мариной щёлкают семечки в клубе. На сцене без занавеса —два усилителя. Слышится громкая, бравурная музыка с однообразными ударами в барабан: — тум — бум, тум — бум…
Кое-кто их подростков танцует. Генка Хиляк в краповом берете стоит по правую руку от Мотыля и не спускает глаз с новой учительницы. Витьке это совсем не по нутру: тут хозяин положения он.
— Ну, чему вас там научили, воин? — подковыривает он Хиляка, потом лениво, будто понарошку, бьёт его в живот. Но его кулак с болью натыкается на металлическую пряжку армейского ремня, незаметного под рыжей футболкой.
— Кое-чему научили, — усмехается Дроздов, мгновенно перехватывая его руку выше локтя и неожиданно опрокидывая Витьку. Мотыль, словно лягушка, шлепается на пол. Все хохочут, а Вера Андреевна особенно.
— Ты понял, Витёк? У него физподготовка – будь здоров! — осклабился один из его дружков.
— Это мы еще поглядим! — не успокаивается Мотыль, вновь кидаясь на обидчика. Но Дроздов уже готов к очередному нападению. Он быстро приседает, уходит в сторону от Витькиных кулаков и почти одновременно бьет Мотыля в живот и челюсть. Тот отлетает в угол и заваливается на оплеванный лузгой пол…
...Больно уколов обо что-то палец, Витька выругался, вытащив из стола финку.
— Ну погоди, Дрозд. Ты у меня кровью ходить начнешь! — с яростью пробурчал он. Резанув финкой по воздуху, вообразил, как будет пырять ею своего обидчика. — Замочу гада…
Но теперь, помимо его воли, перед глазами возник образ не прежнего тщедушного паренька, а рослого Дроздова, владеющего боксом и самбо. «А если не справлюсь? Дроздов и финку запросто выбить может, да еще накостылять,» — заколебался он… Конечно, пускать в ход ее — последнее дело, а на «мокруху» идти — это уже…
Витька не успел додумать до конца своего «уже», как в сенцах стукнула дверь, а в горницу с шумом ворвалась мать, высокая, крупная старуха.
— Дай сюда, зараза! — воскликнула она, увидев в его руках финку.
— Да он меня первый, этот Дрозд…
— А ты не встревай! — строго прикрикнула мать. — Знаю я, кто первый, а кто последний. Был бы отец, он тебе мозги живо бы вправил… Верно люди говорят: по тебе давно тюрьма плачет. То дачу обворуешь, обормот несчастный, то провод алюминиевый украдешь… Стервец, ты, Витька, хоть и сын мне.
Она подошла к открытому в палисадник окну и, размахнувшись, забросила финку в темень. Старая Мотылиха с грохотом захлопнула створки, задёрнула занавески. Охая, хватаясь за больную поясницу, пошла в спальню. Оттуда долгое время доносился её постепенно переходящий в плач голос.
Надорвавшись в крике, она быстро слабела, словно израненная волчица, ложилась на койку и начинала причитать. Сквозь тонкую перегородку слышались её слёзные стенания о неудавшейся бабьей доле, о муже, бросившем её на произвол судьбы, о старшей дочери, совсем забывшей её, о не выплаченной за последние три месяца пенсии, когда кормит лишь огород, и, наконец, о шалопутном сыне, ворующем всё, что попадёт под его нечистую руку.
Мучения матери были для Витьки самыми муторными часами в его жизни. Они вывертывали душу наизнанку, хотелось бежать из дома неизвестно куда…
***
Мотыль за финкой не пошел. Не потому, что боялся темноты. Просто настроение было не то. Мать по-прежнему продолжала завывать, лицо болело от полученных ударов, а тело казалось чужим и непослушным.
— Ладно, оставлю финку до утра. Никуда не денется… — вглядываясь в сумерки, решил Витька.
6.
Леня! — поманил к себе пальцем директор школы. — Сходи, пожалуйста, к Вере Андреевне. Пусть сегодня придет пораньше.
Новгородцев вприпрыжку побежал исполнять директорский наказ. У забора тетки Мотылихи он остановился и даже присел от удивления: в прогалине между досками из земли наполовину торчала стальная финка. Ее цветная рукоятка была заманчиво красива, а никелированное лезвие ярко сверкало на солнце. Леня с трудом вытащил находку из земли.
— Вот это да! — воскликнул паренек, прикидывая, как похвалится ею в детдоме. Леня огляделся вокруг, стараясь понять, откуда она тут, но улица была пуста, лишь возле сельского магазина тарахтел трактор. Однако он быстро сообразил, что показывать финку в детдоме нельзя: «Там Витька Шмель сразу отнимет, — сник мальчик. —Он такой… Надо бы Вере Андреевне показать. Она разберется».
Летнее утро выдалось тёплым. Облака плыли в голубовато-сером небе. Слабый ветерок легонько пошевеливал зелёные листья тополей и берёзок, росших вдоль домов с раскрашенными наличниками. И если б не эта случайная находка, Лёня непременно бы в такой завидный денёк помечтал о рыбалке. На глубоких омутах деревенской речки, в тени деревьев, среди жёлтых и белых кувшинок, хорошо клевала краснопёрка. Она медленно уводила красно-белый поплавок под широкие зелёные листья, по которым забавно прыгали жучки-плавунцы. В прибрежных камышах изредка всплёскивалась крупная рыба, и тогда с поверхности прогретой солнцем воды серебристой россыпью испуганно выпрыгивала мелочь…
Тут даже в жару прохладно, можно раздеться до трусов, побродить босиком по влажной высокой траве, вдыхая её запах; последить за медленно летящей паутиной и гадать, на что она наконец сядет или улетит в синее небо, в дальние края…
Под кустами, в соломенной шляпе с рваными краями, неизменно дремал пастух дядя Лёня. На небольшом пляже лежали вечно жующие коровы, хвостом отгоняя надоедливых мух и слепней.
— Дядь Лень, можно вашей удочкой порыбачить? — иногда просит он, стеснительно переминаясь с ноги на ногу.
—Да бери, тезка, бери, жалко что-ль? – участливо предлагал пастух. — Я вчерась на твоем месте знаешь какого сазана вытащил? На кило, а то и поболе будет. Чумной попался, чуть леску не порвал. Теперь я потолще привязал… На берегу в траве трепыхается, рот трубочкой вытягивает, жабрами шевелит. Желтый весь, а на губах светлые усики. Свешиваются, как у нашего гармониста Петьки Гаврюхина…
—Ты, Ленька, к коряжке поближе бросай, что под деревом на воде лежит, — каждый раз наставлял он, поправляя дырявую шляпу. — Ну, а ручейника — то знаешь, где брать?
— Знаю, дядь Лень, знаю, — торопливо отвечал повеселевший мальчик.
Добыв ручейника, Леня узкой тропкой шел к своему излюбленному месту на реке, на ходу снимая рубашку. С полей и подворий веяло горьковатым запахом трав, сена и навоза. Здесь все было родным, милым, радостно ложилось на сердце, тут он забывал про обиды и тумаки, получаемые от Витьки Шмеля. Здесь Леня прятал свои слезы…
7.
Вера Андреевна, вас в школу вызывают, — произнес он запыхавшись. — Евгений Матвеевич велел передать…
— А что случилось-то, не знаешь?
Леня отрицательно качнул лохматой головой. Не удержавшись, скороговоркой обмолвился о найденной им финке. Достал ее из ранца, протянул ей.
Туманова ойкнула, спросила, где нашёл, и задала множество вопросов, на которые Новгородцев не смог ответить.
— Ну, хорошо, — наконец произнесла учительница, поняв, что большего она от него не добьется. Оба вышли на деревенскую улицу. На пути никто не встретился. Вера Андреевна всю дорогу молчала. Проходя мимо низкого мотылихинского забора, Леня взволновался:
— Здесь она была, Вера Андреевна. Тут блеснула.
Учительница нагнулась к тому месту, на которое указал Леня, увидела узкую щель в земле, оставленную финкой.
— А рядом ты никого не заметил?
— Не-а, — протянул Новгородцев. — Только трактор у магазина стоял. А в кабинке пусто было…
С противоположной стороны забора показалась дородная хозяйка дома с ведром в руках.
— Авдотья Никитична, можно вас? — позвала Туманова. — Подойдите на минутку, пожалуйста…
— Вам чего, Вера Андреевна? — уважительно спросила Мотылева. — Может, помочь чем?
— Сынок-то ваш дома?
— Спит. Как из клуба вчера побитый пришел, так сразу в кровать завалился.
Туманова развернула синюю тряпицу, протянула ей поблескивающую финку:
— Ваша?
Мотылева, не удержавшись, ойкнула, сразу узнав ее, но в руки не взяла, а только спросила:
— А откуда она у вас?
— Да вот Леня утром нашел…
— Да мало ли кто мог ее потерять?! — воскликнула она, слегка стушевавшись. — Сколько народу тут ходит…
— Нет, Авдотья Никитична. Финка с вашей стороны забора торчала. Там в земле отметка есть… Да и в клубе вечером ваш сынок хорошо получил от Генки Хиляка, и поделом: он же первый драку затеял. А Витька из тех, кто обиды не прощает. Его это финка… Приготовил для дела. А для какого — вы ведь сами догадываетесь…
Мотылева молчала, понимая, что правда не на ее стороне.
— Мой вам совет, Авдотья Никитична: финку подальше от греха запрячьте. За нее в милиции по головке не погладят… Неужели вам хочется, чтобы сына в тюрьму засадили? За убийство! Вам это нужно?
— Что вы такое говорите, Вера Андреевна. Побойтесь Бога! — наконец спохватилась Мотылева. — Я сделаю, как вы сказали.
— Вот и прекрасно. А в милицию я не пойду. Не беспокойтесь. И ты, Леня, помалкивай. Ладно?
— Хорошо, Вера Андреевна, — быстро согласился мальчик.
8.
По дороге в магазин Сковородников уже издали заметил Сидоровну. В свое время она сосватала Митьку Сарафанова за его дочь, и теперь он не знал, радоваться тому или нет. Митька оказался большим ленивцем. Изба свахи находилась на другом конце поселка, виделись редко, а тут как раз у магазина сошлись.
— Ну, здравствуй, Петр.
— Здравствуй, Сидоровна.
— Ты, Петя, гляжу избегать меня стал? — сваха медленно вытерла синеватые губы концом повязанного под подбородком платка. — Оно понятно, - продолжала она. — У тебя, чай, молодуха в доме. Ей теперь все внимание… Даже бороду с усами сбрил. Сразу-то тебя не признала…
Сидоровна замолчала, окинув косым взглядом и коричневый загар на его лице, и чистую рубаху навыпуск, делавшую его значительно моложе. Прокручивая в памяти ту единственную, волшебную ночь в их прежней, молодой жизни и беззлобно пристыдив односельчанина, она с усмешкой на губах теперь ожидала, что же ответит ее бывший полюбовник: «Правду ли болтают про него и молодуху?»
— А ты никак ревнуешь, сваха? — открыто спросил Петр Тимофеевич, по привычке оглаживая уже давно несуществующую на лице бороду. — Брось, Сидоровна. Не по Сеньке шапка. Девку замуж выдавать надо. Вот я и маркитаню: за кого?.. За Генку Хиляка, что ль? Иль за Мотыля? Оба не у дел. Генка-то еще чуток на стороне зашибает, а Мотыль — известный лоботряс… Правда, раньше с работой проще было. А где ее сейчас возьмешь? Развал в колхозе полный…
Отвечая ей, Петр Тимофеевич и сам в свою очередь с интересом поглядывал на Сидоровну: «А она не так еще стара: бойкая, живая, за словом в карман не лезет, ходит без палочки, не как другие… За собой следит: шнурочек под крестиком чистый, кофта с юбкой отглажены…»
Разговор опять коснулся приезжей учительницы. А на вопрос Сидоровны: «Почему сюда приехала?», — ответил не сразу:
— Догадываюсь, что неспроста, сваха. Может, неудачная любовь? У нее же не спросишь, — виновато проговорил он. — Неудобно как-то.
— Это так…
Сидоровна на минуту задумалась, посмотрела на кладбище, расположенное над изгибом серебристой речки, на поросль стройных березок, грустно подытожила:
— Мы с тобой, Петр, почитай, двое стариков в поселке остались. Окромя Леньки — пастуха. Правда, ему еще и пятидесяти нет… Тебе хоть молодая помогает, а мне каково одной век доживать?
Она опять помолчала, а Сковородников, вспомнив про невыполненное обещание вскопать ей огород, решил сделать это как можно быстрее.
— Вон министры наши в Москве-то срок дожития пенсионерам определили, — с иронией сказал он, переводя разговор на другое. — Целых девятнадцать годков после ухода на пенсию отмерили старикам доживать. Сам по радио слышал. Слова какие выдумали: «Срок до - жи - тия…» — как-то по-детски передразнил он.
— Так они правы, Петр, — возразила Сидоровна. — И обижаться на них нечего. Им по науке считать надобно. Сколько денег нам нужно каждый год отмерять на это самое «дожитие».
Но, не выдержав, скривила в улыбке тонкие губы.
— Уж больно унизительно это слушать, сваха. Будто мы с тобой бревна какие безмозглые… А ежели я, к примеру, подольше на этом свете задержусь? Тогда что? Урон государству нанесу? Или раньше «коньки отброшу»? Тогда, значит, государство на мне сэкономит? Обидно, сваха… А сколько мы с тобой государству родненькому здоровья и сил своих отдали? Это разве не в счет? — не успокаивался он.
— Перетерпим, Петр. Жизнь — она не вечна ни для кого. Ни для нас, ни для них.
Сидоровна усмехнулась, подняв пожелтевший палец, а Сковородников, все поняв, расхохотался от души.
— Правильно рассуждаешь, сваха. Умница! Я об этом завсегда всем говорю…
Он повернулся к магазину и, уже успокоенный, шутливо предложил:
— Пошли, а то все без нас разберут. — Петр Тимофеевич вытащил из кармана брюк потертую авоську. — На чай-то к нам заходи. Рыбкой угощу. С учителькой познакомлю. Прелюбопытная женщина, я тебе скажу… Хочет Леньке Новгородцеву, ну, который из детдома, гармонь покупать.
— А зачем она ему? – не поняла Сидоровна.
— Да как же… Мальчонка к музыке тянется. По мне, так пускай… Гармония, фисгармония всякая... — Старик рассмеялся. — Помнишь раньше?
— Все я помню, — в ответ улыбнулась сваха. — Ничего не забыла, Петя.
И оба чинно зашагали к магазину.
9.
Сколько Леня себя помнил, он всегда был окружен чужими людьми и такими же, как он сам, сиротами. Кому-то везло — их забирали приемные родители, и тогда эти счастливчики навсегда исчезали из приюта.
Лёня часто фантазировал, как его тоже когда-нибудь выберут и он заживёт в новой семье, в ласке, тепле и заботе. Ему будут только рады, не обидят, как Витька Шмель… Купят новые вещи, не такие, как у детдомовских, – у всех одинаковые, а нормальные, настоящие, а может, и гармонь, о которой он давно мечтал.
«Наверно, это большое счастье — попасть в хорошую и добрую семью,» — растроганно думал мальчик, вспомнив, как уводили из детдома Коноплеву. — «Повезло ей...» — завидовал Леня, поглядывая на ее новых родителей, ожидавших у порога с тощим Настиным узелком. Они жили в этом же поселке, были бездетными.
Настя почему-то плакала, долго махала всем худенькой ручкой… Леня не выдержал, подбежал и молча всунул в ее теплую ладонь яблоко, которое им давали на полдник.
…Настя не догадывалась, что ее веснушки, густо посаженные на небольшой носик, и пухлые розовые щечки не давали покоя мальчику. «Ни у кого из девчонок таких нет, а у нее вон их сколько!» — удивлялся паренек, стараясь держаться рядом.
Он как-то взялся их считать, но после двадцатой сбился — Настя неожиданно повернулась спиной. Ему постоянно хотелось дотронуться до этих желтых крапинок, однако всякий раз он робел, отдергивая занесённую руку.
— Ты чего, Лень? — с улыбкой однажды спросила Коноплева, кажется, начиная что-то чувствовать своим маленьким женским сердцем.
— Н-ничего... — растерянно пробормотал он, застигнутый врасплох, сам не понимая странного для себя желания.
Лене нравилось, что Настя одной из первых поднимала руку, чтобы ответить учительнице, нравилось, как она пела со сцены и с выражением читала стихи на детских праздниках. Ему почему-то было жаль эту девочку, такую же сироту, как и он, тоже подброшенную на ступени детдома. Многое их роднило.
С Настей дружил Сережа Солнцев, крупный белобрысый подросток из 5 «Б», по прозвищу Стенька Разин.
Оно прилипло к нему с прошлого года, когда совершенно не умеющая плавать Настенька вошла в реку по грудь, чтобы ополоснуться, да и поскользнулась на глинистой кочке. Подхватило ее течением, понесло на глубину. А тут Солнцев ближе всех к ней оказался. Помог ей, вытащил из воды, положил на речной песок. Перепуганная девочка закашлялась от попавшей в легкие воды, но отошла, только сумасшедшими глазами на всех посматривает, ничего понять не может.
С той поры это прозвище и приклеилось к Сережке. Правда, Стенька-то Разин княжну в реку бросал, чтобы утопить, а тут как раз наоборот вышло: не дал Коноплевой погибнуть.
Конопатый, под стать ей, он каждый день встречал ее после уроков.
«Настя, наверное, поделилась с ним своими веснушками, вот они и перебежали к Солнцеву», — без всякой обиды, но слегка опечаленный, посмеивался Новгородцев.
…Однажды его тоже почти выбрали. Хорошо одетые тётенька с дяденькой близко подошли к нему.
— Как тебя зовут, мальчик? — спросила полная дама с золотым кольцом на руке.
— Леня, — растерянно ответил Новгородцев.
Его сердце вдруг радостно заколотилось: «Неужто они?»
Дама оглядела его со всех сторон, велела открыть рот, показать зубы.
— В общем мальчик ничего, симпатичный даже, — сказала дама. — Но ты посмотри Виктóр, — на французский манер нажимая на букву «о», произнесла она, — какие у него оттопыренные уши! Это невозможно! Сэ темпосибль[1].
— Хорошо, хорошо… Ты уж сама определись, Валентина. Тебе решать, — отозвался дяденька в очках и отутюженных белых шортах.
Дама, нисколько не стесняясь других детей, взяла Новгородцева за левое ухо, больно оттянув в сторону:
— Вот видишь! Его будет стыдно показывать… Ушастик какой-то…
— Стенька Разин у нас уже есть. Теперь и Ушастик объявился, — подковырнул Витька Шмель.
Раздался ребячий смех.
Новоявленные родители давно ушли, а в комнате еще продолжали дразнить бедного мальчика Ушастиком. Всем было весело, лишь один Леня, примостившись в уголке, украдкой вытер рукавом набежавшие слезы.
Впрочем, эта женщина никому не понравилась. Даже Шмель, его заклятый враг, после ухода семейной пары прогулялся по комнате, смешно выпятив тощий живот:
— О-хо-хо! Какие мы фигли-мигли! Ты только посмотри, Виктóр... — передразнил он даму писклявым голосом, поднимая руки над головой и покачивая бедрами…
Воспитательница, оставившая детей без присмотра, получила выговор. Про неудачный эпизод с выбором ребенка вскоре забыли. Однако в нем сквозило что-то неприятное, унижающее достоинство маленького человека. Леня замкнулся, ходил с хмурым лицом и теперь всячески избегал публичной демонстрации своей внешности.
Прошло некоторое время, мальчик постепенно отходил от нанесенной ему душевной травмы, как вдруг нежданно-негаданно случилась новая неприятность. Однажды, увидев на нем старенькую рубашку, Вера Андреевна присмотрела в магазине новую. Заправленная в брюки и подпоясанная еще ранее купленным желтым ремнем, голубая сорочка сразу придала Лене вид ухоженного, домашнего ребенка. Новгородцев был доволен: его глаза стали веселыми, а счастливая улыбка на его лице была для Тумановой дороже всех похвал.
— Знаешь, она тебе очень идет, — заметила учительница.
Впервые в жизни Леня ощутил настоящую заботу о себе, что-то теплое подступило к сердцу, в глазах появились слезы. Вера Андреевна тоже была растрогана. Они лишь молча смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова.
— Так вы берете? — спросила продавщица.
— Берем, берем, — торопливо ответила Туманова, вытирая мокрые щеки.
10.
Но не долго Леня любовался своим новым нарядом. Витька Шмель неожиданно снял его рубашку со стула и попробовал натянуть на себя. Шмель был старше, выше ростом: рубашка, конечно, затрещала, лопнув на его груди.
Увидев это, Новгородцев кинулся к нему, но Витька увернулся, забегал по комнате с глуповатой ухмылкой на губах. Сорвав сорочку с себя, бросил к ногам расстроенного Лени. Тот поднял ее, подошел к Шмелю, молча залепил ему пощечину. Все его обиды на этого человека, скопившиеся за годы издевательств над ним, вдруг прорвались наружу. Леня и сам не ожидал от себя такого и теперь, побледневший, ожидал ответного удара. Он стоял перед Витькой, сильно до боли, сжав кулачки.
Но удара не последовало. Витькин кулак, занесенный было над Ленькиной головой, вдруг разжался, его рука опустилась. Шмель, будто устыдившись себя, независимо насвистывая веселенький мотивчик, вышел во двор покурить.
— Ничего, Леня, ничего, — расстроенным голосом сказала Вера Андреевна, узнав об этом. — Ты прости этого Витьку. Он и так наказан судьбой. Ведь тоже без родителей, бедняга…
Она немного помолчала:
— Слушай, а давай с тобой купим две рубашки: одну тебе, другую Витьке. Ты не против?
До Лени не сразу дошел смысл сказанного учительницей, а когда он понял — улыбнулся:
— Я согласен, Вера Андреевна, — повеселел мальчик, — но где же взять столько денег?
— Это уж не твоя забота, мой милый, — вздохнула Вера Андреевна.
— «Милый...» — повторил про себя Новгородцев. Его никогда в жизни не называли так. Для него привычными словами были другие: «Ушастик, принеси то, Ушастик, принеси это…»
Сейчас Леня стеснялся поднять на Веру Андреевну полные слез глаза. Этим он только покажет ей свою слабость. А казаться слабаком он не хотел.
11.
На крутом песчаном берегу таежной реки под одинокими соснами стояли двое: хорошо сложенный мускулистый парень и худенький мальчик лет восьми — десяти. Они только что искупались, и капли воды, поблескивая серебристыми струйками, еще скатывались по их смуглым телам. Рядом лежала сброшенная одежда.
— А здорово вы тогда в клубе кинули Витьку Мотыля, — проговорил мальчик, с восхищением оглядывая атлетическую фигуру своего приятеля. — Шлепнулся на пол, как лягушка…
— Поделом ему. Первый начал, — отмахнулся парень, медленно вытираясь полотенцем. Его бугристые мышцы, словно волны, перекатывались под упругой кожей. Однако чувствовалось, что это воспоминание было для него не очень приятным.
— А хочешь, я научу тебя такому приему? — предложил он. — Смотри, как это делается. Давай, нападай. — Парень захватил поднятую на него руку, потянул на свое плечо, развернулся к Лене спиной и, нагнувшись, кинул его через себя…
— Здорово! — воскликнул мальчик, поднимаясь на ноги и потирая слегка ушибленную коленку. Дроздов по-дружески протянул ему руку, стряхнул с его спины прилипшие песчинки.
— А может, еще что-нибудь покажете? — попросил Новгородцев.
— Теперь бей меня в живот, малыш. Что есть силы, — отставной солдат напряг мышцы. — Смелее, Леня, — добавил он, видя нерешительность ребенка.
Новгородцев вначале осторожно, а потом все сильнее и сильнее стал колотить друга. Однако коричневый от загара живот дяди Гены, похожий на плитку шоколада, оставался твердым и окаменевшим. От ударов мальчика он лишь порозовел, а кулаки отскакивали, как от барабана.
— Не больно, дядь Ген? — удивленно спросил уже порядочно уставший паренек.
— Я привык к мужским, серьезным ударам, — улыбнулся спортсмен, когда экзекуция закончилась. — Здесь, Леня, расположено солнечное сплетение, сходятся многие нервные окончания. Если точно попасть, то и убить можно… В драке, малыш, свой живот защищай и качай почаще брюшной пресс.
Новгородцев попробовал было пошевелить своим тощим, проваленным животом, но тот даже не дрогнул. Своими потугами Леня только насмешил друга.
— Не отчаивайся, малыш, — улыбнулся Дроздов. — Обязательно получится, но не сразу. Я ведь тоже был когда-то «Хиляком» — слыхал, наверное? Чтобы стать сильным и ловким, каждое утро приходи сюда делать зарядку, бросай в воду камни, бегай, прыгай, развивай себя физически. Выбери вид спорта по душе. И тогда такие, как Витька Шмель, отстанут. Ясно?
В ответ мальчик кивнул. Несмотря на свой малый возраст, Леня успел уже хлебнуть так много горя и унижений, что иному хватило бы на всю жизнь.
Нещадно жгло солнце. В его лучах кора на высоких соснах отливала красной медью. Где-то поблизости кукушка отсчитывала чьи-то не прожитые годы. Они сидели на берегу Таволги, любуясь быстрым течением реки, по-очереди отхлебывая воду из бутылки. Каждый думал о своем.
— А скажи, Леня, Вера Андреевна часто ездит в райцентр? Быть может, у нее там кто-то есть?
Приветливое лицо Новгородцева слегка омрачилось.
— Дядь Ген, вам лучше самому спросить у нее… Да и не знаю я, — вымученно добавил мальчик.
— Спрашивал, — доверительным тоном тихо произнес Дроздов. — Говорит, работать вам надо, Геннадий, найти себя в жизни. Не быть трутнем… А я думаю — дело тут в другом: не нравлюсь я ей. Училка с высшим образованием, а я кто?
Демобилизованный солдат поднял крупный камень, резко размахнулся, в сердцах кинул его в реку. Далеко от берега раздался всплеск воды, во все стороны ровными кругами побежали волны.
Вспомнив, что пора идти в детдом, Леня приуныл. Как ни хорошо было находиться под надежной защитой старшего друга, как ни хотелось расставаться с ласковой прохладой реки, с лесом, где так вольно дышалось, со звоном цикад в неподвижном, безветренном воздухе, а надо было уходить.
«Почему так получается? — с грустью размышлял мальчик. — Дядя Гена — хороший человек, Вера Андреевна тоже, а быть вместе они не могут...»
— Наверное, в Чечню я уеду, — вздохнул Дроздов, начиная одеваться. — В военкомате предложили.… А над моим советом подумай, Леня. Удачи тебе, малыш…
Глава вторая
1.
Миновал год, как Вера Андреевна обосновалась в поселке. Люди здесь были на редкость отзывчивыми и чуткими. Будто догадываясь, что творится на душе у приезжей, не расспрашивали ее ни о чем.
Развод с мужем утомил, измотал нервы. Сейчас она отдыхала от ленинградской суеты, от постоянного гула машин, сплошным потоком идущих под окном, от бесконечных гонок по станциям подземки, чтобы добраться до работы.
Она просто устала от всего, хотела лишь тишины и теперь с улыбкой радовалась спокойной деревенской жизни. Спозаранку открыв окно, выходящее в яблоневый сад, полный прохлады, она не могла вдоволь надышаться запахом акаций и сирени, насмотреться на распустившиеся розы, хризантемы и крупные ромашки, над которыми уже с утра хлопотали пчелы. А неслаженный хор петушиных голосов, посвист пастушьего кнута, отдаленный топот бегущих коров и лай собаки успокаивали ее, словно больную.
Здесь все было новым и порою смешным: и довольно хрюкающий поросенок, и клушка с цыплятами, без разбора наступавшими в корыто с питьевой водой.
— Боже мой, какие вы глупенькие! — удивлялась Вера, и взяв в руки жалобно пищащий комочек, с умилением прижимала его к лицу, ощущая нежный желтый пушок и стук часто бьющегося маленького сердца…
…Впервые она увидела Барышева на одной из вечеринок у подруги, с которой закончила педагогический. Это был черноглазый высокий мужчина с холеным лицом и коротко подстриженными усиками. Он так раскованно общался с приятелями, рассказывая смешные анекдоты, что сразу произвел на Верочку самое благоприятное впечатление. Казалось, что уж такой красавец непременно должен быть умным и добрым.
Похоже, она ему тоже понравилась: его пристальный взгляд Вера Андреевна чувствовала даже спиной, когда она, отвернувшись, разговаривала с подругой.
«А, собственно, почему меня нельзя полюбить? Я знаю, что красива, я нравлюсь мужчинам, в этом ничего нет особенного...» — с непонятным для нее самой волнением рассуждала она, незаметно приглядываясь к Барышеву, и решая, что станет делать, если он пригласит ее.
...Вечер прошел замечательно: много шутили, танцевали. То и дело взлетали пробки от шампанского. Барышев по-прежнему не сводил с нее глаз, но танцевал почему-то с другими. Он казался старше ее, был, конечно, опытнее — такая игра между ними даже ей импонировала, внося некий романтизм в их еще не завязавшиеся отношения.
— Я могу вам помочь, — галантно предложил он, быстро и ловко сняв с крючка шубку. Не дожидаясь согласия, облачил Веру в ее уютную и теплую одежду. Это приятно затронуло женское самолюбие, и Туманова на мгновение почувствовала себя слабой и беззащитной в его сильных мужских руках.
Вера Андреевна не отстранялась от его мелких ухаживаний, спускаясь по лестнице — молчала, твердо решив не ускорять естественного хода событий.
Вечером в понедельник они уже сидели на концерте в филармонии, в среду — в оперном слушали «Кармен», а в воскресенье на его машине выехали за город... Любовное увлечение вскружило им головы, а через месяц Барышев сделал предложение. Верочка с радостью согласилась.
Она телеграммой вызвала мать, но Елизавета Филипповна приехала с большим запозданием, лишь через месяц, когда молодожены уже расписались и теперь жили в его двухкомнатной на Васильевском...
2.
Никаких намеков на дурное поведение мужа не было. Владимир работал таксистом, приносил хорошие деньги. Но Вера чувствовала, что Барышев отдает не все. Однако на житье вместе с ее зарплатой хватало, супруг часто дарил обновки, а его карманные расходы Верочку мало волновали: он мужчина, и этим все сказано.
Наконец, хмурым, дождливым утром приехала мать. Они обнялись. От нее веяло уличной свежестью и теплом. Запах тепла и домашнего уюта, принесенные ею, напомнили Вере о родительском доме, когда она, маленькая, ходила в школу. Ее встречал кто-нибудь из свободных родителей, но чаще – отец. Крепко держась за его руку, Верочка испытывала радость, она шла, будто летела… Иногда после школы заходили в городской парк, где играла музыка. Отец покупал сладости, предлагал покататься на карусели. Люлька постепенно набирала скорость и высоту, и, сидя рядом с отцом, обдуваемая ветром, Верочка ойкала, замирая от страха.
Разноцветные павильоны и ларьки в парке, деревья, зеленая вода в озере и голубое небо над головой казались ей какими-то ненастоящими, сказочными…
Елизавета Филипповна познакомилась с зятем, позавтракала, осмотрела квартиру, а когда остались наедине, тихо сказала:
— Знаешь, дочка, я, конечно, не вправе… Но ты уже взрослая, с институтским образованием… Мне кажется, ты допустила ошибку.
Волнуясь, пропуская слова, уточнила:
— Вы гуляли всего месяц? Что такое месяц? — усиливая голос, повторила она. — Я с твоим отцом два года ходила… Не узнав брода, да полезть в воду? Прости, я этого не понимаю.
— Да ну, будет тебе, мама, — беззаботно отозвалась Вера, уже с утра вертясь перед зеркалом и примеряя купленное мужем платье с золотыми блестками. — Если что — разведемся.
— Как у тебя все просто… А, если пойдут дети? — удивилась старшая Туманова. Она энергично, несмотря на полноту, встала с мягкого дивана и шагнула к дочери.
— Не пойдут. Мы сначала поживем для себя.
— Так это, как получится, доча! — вздохнула Елизавета Филипповна, безуспешно стараясь пробиться к ее разуму. — Ты меня слышишь?
— Слышу, слышу, мама, — рассеянно отвечала Верочка, обувая желтые туфли с блестящими пряжками и любуясь своим отражением в зеркале.
— Ты хоть в кладовку-то заглядывала? Там уйма пустых бутылок из-под вина…
— А-а, это... — слегка стушевалась Вера. — Я еще их не выбросила. Знаешь, не успела. До знакомства со мной Владимир выпивал. Но он дал слово…
— Да-а, — протянула мать. — Не ожидала я от тебя такого легкомысленного шага. Недаром в народе говорят, что любовь слепа. Конечно, дай вам Бог жить в мире, согласии, но…
Мать с досадой махнула рукой в сторону обновок, ожидающих своей очереди для примерки, и направилась к дорожной сумке упаковывать вещи.
Когда всё было готово и сумка оказалась в прихожей, они посидели на дорожку, обнялись, поплакали: дочь — от нагрянувшего счастья, мать — от дурного предчувствия.
— Если что — сразу ко мне. Слышишь? Ты проводишь меня?
— Подожди, мама, я позвоню Владимиру. Он отвезет нас на вокзал. И надо же вам проститься…
— Прощаться не обязательно, — категорически отрезала Елизавета Филипповна. — А на вокзал я доеду и сама…
3.
В дальнем углу двора, там, где почти сходились глухими стенами две многоэтажки, поблескивал металлом гараж инвалида войны дяди Вани. Сам хозяин машины пользовался ею редко, предоставив мужикам распоряжаться свободной территорией. Наиболее расторопные из них вкопали в землю столик, пару скамеек, посадили два деревца, которые со временем разрослись.
Здесь, в тени, можно было поиграть в карты, домино, втихаря ото всех оприходовать бутылочку – другую спиртного, поспорить о жизни и политике. Слышались смех, шелест сдаваемых карт и азартный перестук костяшек домино. Сюда вечерами заглядывал и Барышев, признанный любимец женщин, чтобы поведать о новых победах, пообщаться с приятелями и рассказать свежие анекдоты.
Этот крохотный закуток скрывал мужскую часть населения двора от их строптиво-назойливых жён, давая «беднягам» хоть временную, да передышку. Но как бы мужики не ловчили и не прятались от недремлющего женского ока, те, когда им было надо, легко находили своих суженых среди других заблудших.
…Вере Андреевне повезло: с трудом достав билеты на «Лебединое озеро», она, на радостях, хотела пригласить мужа и, подойдя к столику, поздоровалась.
Мужики ответили на разные голоса.
— Да смотрел я по телеку это «Озеро», — протянул Барышев, недовольный тем, что его отвлекли.
— На девочек хоть поглядишь, — рассмеялась супруга, с любопытством оглядывая окружающих.
— И девочек видал… Делать им нечего, вот они и прыгают на цыпочках в коротких юбчонках, — осклабился Владимир, подставляя новую карту домино. Чувствовалось, что он уже успел причаститься.
— Правильно твой муж говорит, Вера Андреевна, — заметил сосед по этажу. — Его язык тоже слегка заплетался. — Мы в театрах — ни бум-бум.
— Но ты же, Володя, слушал со мной «Кармен», — не сдавалась Вера. — Помнишь?
— Было дело, — с неохотой признал муж. — Да только зевал я на твоей опере…
Барышев усмехнулся, не глядя на жену, привстал из-за стола, с азартом выкрикнул:
— «Рыба», ребята…
С шумом перемешав доминошные костяшки, сосед заметил:
— Не обижайтесь на нас, Вера Андреевна. Мы уж лучше тут побудем, поиграем. Мы — другие… Вон твой Володька, к примеру, таксист, я — бывший плотник, а Колька Степанов... Чего ты ржешь?.. Ржешь-то чего? — обратился он к нему — ...Бывший электрик…
Мужики одобрительно загудели.
— А я бы пошел, ребята, — тихо произнес напарник Барышева — студент – заочник, но, встретив неприязненный взгляд таксиста, тут же осекся.
Туманова промолчала. Все ее просьбы к мужу — вырваться из квартиры хоть на вечер – всякий раз натыкались на невидимую преграду непонимания. Одна ходить не решалась, чтобы не обострять отношения, уже и так давшие трещину.
«Действительно, какие мы все разные…» — чувствуя себя духовно одинокой и лишней, подумала женщина, отходя от столика.
Барышев стал позднее обычного возвращаться домой, к тому же под хмельком. А однажды и вовсе не пришел ночевать.
— Я подаю на развод, — в то злополучное утро решительно заявила Вера.
Она уже знала, что находится в положении. Однако это ее не остановило.
— Нам надо бы объясниться, — смущенно подкашливая, предложил Барышев и нервно закурил.
— Не надо. Ты мне противен! — отрезала Туманова. — От тебя винищем разит. Фу-у... — учительница помахала пальцами перед своим носом. — А на твоем платке — губная помада… Мне это надоело…
4.
После развода ей досталась небольшая комната с соседями, но она и ей была рада. Поехать к матери не решалась – одолевал стыд. Мать, как всегда, оказалась права. К тому же их семью в родном городке хорошо знали многие люди, которые относились к ним с особым уважением.
«Какое же теперь будет уважение, если я приеду без мужа с ребенком?» — задавала себе вопрос.
Из письма Елизаветы Филипповны она поняла: мать, еще не старая женщина, давно потеряв мужа (тот разбился на мотоцикле), сама собиралась выйти замуж, как-то устроить свою судьбу. Верочка знала этого человека: он был местный, из их небольшого городка, работал инженером, два года назад похоронил супругу. Жить они собирались в отцовской квартире, и Верочка могла бы стать помехой для новой семьи.
Аборт прошел удачно, но врач предупредил: детей теперь не будет. Чтобы сменить обстановку, не оставаться в Ленинграде, Вера обратилась в министерство образования за новым направлением. Там ее выслушали, обещали помочь.
Прошло некоторое время — ее наконец вызвали:
— Ну вот, Вера Андреевна, как вы просили, — здороваясь и выходя из-за массивного стола, сказал заместитель министра Степан Сергеевич Полуэктов, совсем еще молодой человек. — И Москва не против…
Он подошел к географической карте, висящей на стене, взял указку с полированной тумбочки, кружком обозначил место:
— Это здесь. Правда, далековато от Ленинграда, но уж больно Столяров просил, — добавил он, словно извиняясь за такое не совсем удачное назначение и боясь отказа. — Увидите, он хороший, не обидит, — Полуэктов по-прежнему виновато улыбался. — Кстати, тут таежные места: речка, лес…
«Боже, какая глухомань! Куда это я?» — ужаснулась учительница. Ее тоскливый взгляд упал за окно, где, отливая золотом, блестел купол Исаакиевского собора, а по чугунному мосту через Неву шли и шли люди.
Стало жаль Эрмитажа с его бесчисленными залами, Петродворца с неповторимыми фонтанами, которых она больше не увидит. И ей уже расхотелось уезжать. «Да что это я раскисла совсем! — упрекнула себя. — Там ведь тоже люди живут».
— Я согласна, Степан Сергеевич! — решительно заявила Туманова, просмотрев направление.
— Вот и договорились… Евгению Матвеевичу пламенный привет, а вам — наилучшие пожелания! — напутствовал Полуэктов. И, осторожно взяв ее под локоток, проводил до дверей кабинета.
Нужно сказать, что Полуэктов в течение двух последних лет безуспешно искал Столярову подходящую кандидатуру, а тут — такая удача.
Закрыв за собой дверь, замминистра удовлетворенно поцокал языком, слегка подпрыгнул и резко взмахнул рукой:
— Йесс…
5.
Веру Андреевну порадовала школа. Выстроенная из красно-белого кирпича еще в советские времена, она была трехэтажной, со спортивным залом. В нее съезжались дети из соседних сел и деревень. Двор был большой, обнесенный черной металлической оградой. За ней виднелись футбольные ворота, где с утра до позднего вечера не умолкал гул детских голосов.
Обычные, светлые классы ее нисколько не удивили, но вот хорошая библиотека с портретами известных писателей понравилась. «Значит, что-то еще читают люди, — подумала она, — не все так безнадежно…» Настроение у Тумановой поднялось, когда она увидела в зале на втором этаже рояль. Сиротливо, как будто всеми забытый, он стоял в углу, поблескивая черным лаком.
Вера Андреевна подошла ближе. Рояль был старый, допотопный, не сравнимый с тем, что в Ленинградском музыкальном училище. Она окончила его до замужества, когда жила с романтикой в голове и песнями в душе. Но развод с Барышевым все в ней перевернул.
Вера Андреевна ладонью смахнула пыль с крышки инструмента, однако не удержалась, открыла ее, обнажив черно-белые клавиши. Разминая пальцы, взяла несколько аккордов.
Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил…
В школе как раз шла переменка. По залу с шумом и гамом носились второклассники, но, услыхав звуки музыки, тотчас со всех сторон обступили новую учительницу.
— А сыграйте, пожалуйста, «Улыбку», — попросил мальчишеский голос из-за ее спины. Как она потом узнала — это был Леня Новгородцев.
Кто-то из детей подставил стул, она села, склонилась над роялем, ударила по клавишам:
От улыбки станет всем светлей —
И слону, и даже маленькой улитке.
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки…
Одна из девочек с конопушками на носу осмелела, стала подпевать неуверенным голоском. К ней постепенно присоединились остальные дети, и вот сама Вера Андреевна увлеклась и с сияющими от удовольствия глазами поддержала нестройный ребячий хор…
Неожиданно и так некстати для всех прозвенел звонок на урок, и дети, на разные голоса поблагодарив учительницу, разбежались по своим классам. Лишь один мальчик с оттопыренными ушами слегка поотстал:
— Клево! Спасибо за песню. А у вас хорошо получается, — тихо произнес он и, размахивая тетрадкой, побежал догонять свою группу.
Услыхав эти слова от простого, деревенского паренька, Вера Андреевна едва не прослезилась. На душе стало очень легко, будто никогда не существовало ни самого Барышева, ни тяжелого развода, изматывающего нервы. Шмыгая носом, закрыла крышку рояля, оглядела затуманенным взором быстро опустевший зал и подумала, что здесь не так все плохо, как она представляла… «И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке…» – неожиданно для себя пропела она.
6.
Мысль об усыновлении Лени все чаще и чаще приходила Вере Андреевне в голову. Но в органах опеки и в детском доме, куда она обращалась, потребовали кучу справок, в том числе о ее зарплате: ведь нужно было содержать не только себя, но и приемного мальчика. Однако у Тумановой, как назло, была мизерная зарплата — ей одной-то приходилось туго, а вдвоем стало бы еще труднее.
После некоторых размышлений она решила попросить у директора школы дополнительные уроки или хотя бы справку о повышенном окладе. Но Столяров отказал.
В тот день, она, видимо, попалась ему под горячую руку: директора серьезно покритиковали в районо за низкую успеваемость в подведомственной ему школе, за недостойное поведение его десятиклассника: тот, будучи навеселе, залепил оплеуху одному из прохожих, с которым поссорился, попал в милицию. Пришлось вместе с родителями вызволять парня. Дело, правда, было решено полюбовно, однако горький осадок на душе у Столярова остался.
— С вами, Туманова, не соскучишься, честное слово, — подслеповато щурясь и протирая тряпочкой очки, сказал директор школы. — То проводите свободные уроки, не согласовав со мной, то выбиваете эту злосчастную справку, а я не имею права ее давать, то Генделя предлагаете на фортепьяно сыграть! Люди нас не поймут… Тут глубинка, дорогая Вера Андреевна, а не Ленинградская консерватория.
Столяров разволновался:
— В некоторых семьях, к великому сожалению, дети таблицу умножения не выучили. А знаете почему? Родители в школу их не пускают, потому что дети им нужны для помощи по хозяйству…
Евгений Матвеевич наконец протер толстые стекла двойных очков, водрузил их на переносицу, виновато вздохнул:
— Тут, понимаете, ремонт школе необходим, спортзал разваливается, а вы про Генделя вспомнили.
— Так на ремонт деньги нужны, Евгений Матвеевич, а концерт бесплатно. Это другое, — возразила Туманова. — Вы бы только посмотрели, как дети к музыке тянутся, к искусству… Вон Леня Новгородцев двухрядку клубную из рук не выпускает, когда ему дадут немного попиликать… Подбирает песню про одинокую гармонь. А может, у мальчика талант? Купить бы ему инструмент! — Глаза у Тумановой загорелись светлым огоньком.
— А на какие шиши, Вера Андреевна? Вы только задачи передо мной ставите, а решать их, по-вашему, должен я один? Новгородцев не наш, а детдомовский. Пусть там думают.
— Я вот о чем, Евгений Матвеевич. А что если нам, всем педагогам, сброситься, да подарить Ленику гармонь. Ведь у мальчика день рождения скоро, — упавшим голосом добавила учительница.
Они стояли у директорского кабинета, взволнованно жестикулируя, доказывая друг другу свою точку зрения, совершенно не замечая школьную детвору.
— ...И детский дом подключить, — убеждала Туманова.
Вторая смена подходила к концу, к Столярову приехал сын, его ждали дома, а спор только разгорался.
— Это ваше дело, Вера Андреевна, из каких средств, — уже сдаваясь, устало произнес Столяров. — Я тут умываю руки. Поступайте как знаете… На сегодня все, Туманова, все! — закончил он разговор.
«Такая многого добьется и кого угодно убедит, — одобрил ее в душе Столяров. — Умная, находчивая. Она, пожалуй, справится и с обязанностями моего зама, если поработает еще с годок», — усмехнулся он, входя в директорский кабинет.
7.
Справку раздобыть не удавалось. Евгений Матвеевич был неумолим. Мальчик оставался в детдоме. Вера Андреевна догадывалась, что сироте живется несладко, что ребенка постоянно обижают старшие, но сделать ничего не могла.
— У вас и квартиры-то собственной нет. Где вы будете проживать с ребенком? — спрашивали в органах опеки. — Ведь это живой человек, а не какая-то бездушная машина, которую можно поставить где угодно. И обижаться не надо, Вера Андреевна. Мы вас уважаем, — вразумительно и спокойно объясняли ей.
Возразить на это было трудно. Правда, у Тумановой еще теплилась надежда, что Столяров наконец выделит ей положенное законом жилье. «Хоть тогда с этим вопросом было бы покончено», — мечтала она. Но Евгений Матвеевич, однажды услыхав об этом, лишь беспомощно развел руками:
— Дорогая Вера Андреевна, — сочувственно протянул он, подписывая в своем кабинете какую-то бумагу. — Я, конечно, уважаю законы, но в ближайшее время, к сожалению, ничего не предвидится. Денег на строительство жилья нет, а без них — сами понимаете…
Такое положение Туманову не устраивало: надо было что-то предпринимать, а что — она не знала. К тому же она боялась потерять понравившегося ей мальчика: вдруг кто-то усыновит его раньше, собрав все необходимые документы. Да и обстановка в детдоме складывалась такая, что Вера Андреевна всерьез тревожилась за Леню.
Ребята хулиганили, курили, матерились. Иногда воровали… А в кустах палисадника, окружавшего приют, порой находили такие вещи, которые заставляли покраснеть даже взрослого. Тут любой сломается, не только Леня, чья легкоранимая натура может не выдержать очередного психологического надрыва… Это Туманова хорошо знала по себе.
С появлением мальчика жизнь у Веры Андреевны заметно изменилась. После развода с Барышевым в ее душе поселилась пустота. Теперь же эта ниша заполнилась материнской любовью к Лене. Новое чувство было незнакомым, всепоглощающим. Учительница словно бы заново родилась, ее голова была постоянно занята мыслями о ребенке: «Где он и что делает?» Этот почти усыновлённый ею мальчик явился воплощением в жизнь ее давней мечты: иметь собственных детей. Ну не вышло — так хоть пусть будет из детдома.
В те дни, когда Вера Андреевна забирала мальчика на выходные, Леня светлел лицом. Учительнице казалось, что в приюте плохо кормят, Новгородцеву не хватает еды и потому он так медленно растет. В своей комнатушке у Сковородникова она угощала Леню всем, что было в доме. Паренек с аппетитом уминал суп, отварной картофель, овощные салаты…
Она покупала сладости и, подперев щеку кулачком, с умилением наблюдала, как он ест, пьет, а вылезая из-за стола, благодарит и ополаскивает руки над тазом.
Ей было приятно общаться с ним — она лишь удивлялась его природной интеллигентности.
«Откуда она у него? — думала Туманова, стараясь понять ее истоки. — Наследственное? Интересно бы знать, кем были его родители?» Но уже одно то, что мать подбросила сына на ступени детдома, говорило о ее непорядочности… «Какая уж тут интеллигентность…?» — сомневалась учительница.
После обеда садились на диван смотреть детскую телепрограмму.
— Тебе надо подстричься, сынок, — тихим голосом однажды сказала она, вороша его отросшие волосы. Леня ничего не ответил, но Туманова нисколько не обиделась и лишь теснее прижала его лохматую голову к своему плечу. А мальчику было уютно находится в доме, где его так любили.
Разглядев небольшой, продолговатый шрамик за его левым, слегка оттопыренным ухом, Вера Андреевна осторожно погладила шов, удивляясь тому, что не видела его раньше.
—Откуда он у тебя, милый? — с досадой на себя спросила она.
—Да я уж и не помню…, —ответил ребенок, увлеченный мультиком. На экране, спасаясь от стаи волков, перепрыгивал через пропасть молодой, рогатый олень. Фильм был цветным, интересным, с музыкальным сопровождением.
—Роняли на пол, кажется. Только давно это было, — добавил мальчик.
А учительница, представив, как он падал и разбивался до крови, ужаснулась. Ведь мог и до смерти убиться…
—Тебе что же, и рану зашивали?
—Зашивали, - ответил Леня, не отрывая глаз от экрана.
Так они сидели перед телевизором, тихонько беседуя. И чем чаще Вера Андреевна общалась с ним, тем всякий раз грустнее становилось их расставание: оба незаметно сдружились, привыкли быть вместе, будто навсегда приросли сердцами друг к другу…
8.
Прошло два месяца со дня отъезда Дроздова в Чечню. Дружба с ним оставила глубокий след в душе паренька. Солдата ему явно не хватало, но он хорошо помнил его наказы. Теперь Леня по утрам приходил на берег Таволги делать зарядку, бросал в воду камни, бегал по таежным тропинкам, где пряно пахло смолой, хвоей, грибами, вслушивался в пение птиц. К мальчику постепенно возвращался интерес к жизни.
За лето Новгородцев подрос, его мышцы крепли день ото дня, наливаясь силой. Особенно ему нравились прыжки в реку с обрывистого берега. Он разбегался, взлетал в воздух, перемахивал через узкую береговую полоску желтого песка, с шумом врезался головой в воду. И всякий раз его прыжки становились все длиннее и выше, а сердце замирало от восторга… Порой он воображал себя гордым оленем из мультфильма, который взмывал в голубое небо, вытянувшись в струнку и подобрав ноги, предпочитая разбиться об острые камни, нежели быть растерзанным стаей хищников.
Иногда хотелось улететь к другу в неизвестную ему Чечню вслед за курлыкающими над головой журавлями, взглянуть вниз на широкую ленту реки, пожелтевшие осенние поля, детдом, поблескивающий новой, железной крышей…
В детдоме все оставалось по-прежнему. Правда, Витька Шмель, заимев такую же, как у Лени, голубую сорочку отвязался от него, опасаясь справедливого гнева учительницы. А вновь поступающие дети, наблюдая за двумя подростками в одинаковых рубашках, считали их родными братьями.
В письме к матери Дроздов интересовался судьбой Тумановой, горевал, обещая написать ей лично, а Ленечке передавал привет, что стало для него приятной неожиданностью. Об этом ему сообщила сама Дроздова, встретив Новгородцева, спешащего на репетицию.
—Вера Андреевна, ведь дядя Гена — хороший человек? — опечаленно спросил он, рассказав о письме.
—Видишь ли, Леня, —ответила учительница, подсаживаясь к роялю. — Я знаю куда ты клонишь… Да — хороший он, и спортсмен замечательный, но не зацепил он мою душу. Понимаешь? Человек должен быть чем-то интересен, притягивать к себе. А здесь такого нет. Что поделать! Ты уж извини, милок, за мою прямоту.
Мальчик молчал. Ему было обидно за друга, которого почему-то отвергли, несмотря на заслуги, обидно за Веру Андреевну — одинокую, несчастную женщину, но сделать ничего не мог.
—Любил он вас. Сам мне в этом признавался, — выдавил из себя паренек.
Услыхав такое, Туманова была шокирована. Вот это номер! Она и предполагать не могла, что двое мужчин —большой и маленький —вели разговор о ней. Это походило на какой-то заговор. А теперь еще и письмо!..
Учительница вспыхнула, покраснела: «Милый мальчик! — подумала о Лене. — Он до последнего боролся за личное счастье друга, желая воссоединить обоих».
—Так в меня многие влюблялись, — смягчилась молодая женщина. — Но это ничего не значит. Давай вместе рассуждать… Я знаю, тебе нравится Настенька. А мог бы ты, например, дружить с Белкиной из твоего же класса? Ответь мне, пожалуйста, только честно…
Новгородцев на мгновение задумался. Он представил себе надменную, бледную отличницу-девочку, от которой его воротило, и отрицательно покачал головой.
—Вот видишь! И я бы не смогла с Дроздовым… Ну, не терплю я лысых! Ведь женщине нужно и самой любить. Выбирают не только мужчины… Почему-то я с тобой как со взрослым разговариваю. Но порой мне кажется, ты хорошо все понимаешь, только словами выразить не можешь. Ты — необыкновенный, талантливый мальчик. У тебя большое будущее, Леня…
Учительница вздохнула, легонько потрепала по волосам стоящего рядом ребенка. Репетиция проходила в школе и, собравшись с духом, но еще продолжая улыбаться чему-то светлому, Вера Андреевна наконец открыла крышку старого рояля.
—Давай-ка лучше с тобой повторим первый куплет «Улыбки». Ведь детский праздник на носу, дружочек. Нам надо торопиться. Начали, — и она дотронулась до черно-белых клавиш инструмента.
От улыбки станет всем светлей —
И слону, и даже маленькой улитке, —
запел Леня звонким, мальчишечьим голоском.
Глава третья
1.
Прошли годы. Леонид Павлович Барсуков, известный баритон, мужчина лет сорока, в черном фраке и в ярко-белой манишке, уверенно прохаживался по учебному классу консерватории. Это уединение перед концертом ему было просто необходимо, чтобы расслабиться, настроить себя на сцену, полистать репертуар и попробовать голос.
— А-а-а, — протянул певец.
— О-о-о, — взял он на полтона выше.
— «Из-за острова на стрежень…» — вдруг во всю мощь своих легких взорвался Барсуков, сразу же заполнив маленькую комнату густым, красивым голосом. Но, оборвав музыкальную фразу, он резко остановился перед зеркалом. «Баритон» поправил черную бабочку, оглядел брюки со стрелками, черные лаковые туфли на каблуках и остался собой доволен.
Всё складывалось благополучно: фотографии на афишах нравились, через двадцать минут в большом зале консерватории должен состояться его концерт, администрация обещала полный аншлаг, и волноваться, собственно говоря, никакого повода не было. Казалось, всё шло своим чередом, но какое-то досадное чувство тяготило певца.
Ведь в этом городе на Неве когда-то жила его любимая учительница, теперь, наверное, старушка. Она еще тогда усыновила бы его, если б не тысяча бюрократических препон.
…Вспомнился заброшенный в тайге посёлок, обрывистая река с кувшинками, дядя Лёня с удочкой, детдом, школа, и, конечно, милая Вера Андреевна.
«Надо же, в такое тяжелое, перестроечное время, да при мизерной зарплате купить мне гармонь?!» — удивлялся артист. Это был воистину царский подарок в день его рождения!..
Он вспомнил, как любовно ощупывал каждую пуговку на новом, поблескивающем инструменте, как бережно оглаживал его скользкую поверхность, еще не веря в осуществленную мечту…
Барсуков разволновался, откашлялся от подступающего к горлу комка. Подойдя к окну, стал вглядываться в прохожих на городской улице, будто там, внизу, он мог увидеть свою незабвенную учительницу.
«Жива ли? А если нет, то где похоронена?» – размышлял артист. Он же ничего не сделал, чтобы отыскать бедную женщину, помочь ей или хотя бы поклониться её праху, посидеть у могилы и поплакать. Всякий раз, бывая с концертами в Ленинграде, Барсукову не хватало времени навести нужные справки о ней, и сейчас он казнил себя за это.
2.
…Вспомнилась кроткая девочка Коноплева со смешными конопушками на лице, в которую был когда-то влюблен… До ее веснушек, как ему очень хотелось, Леня все-таки дотронулся. Это случилось недели через две после того, как Сережа Солнцев, усыновленный новыми родителями, уехал с ними из поселка. Настенька осталась одна. Было заметно, что девочка скучала. Ее теперь никто не встречал после уроков, не нес портфель, не гулял с нею.
И однажды Новгородцев решился. В переменку он подошел к девочке и предложил покататься на школьных качелях. Настенька улыбнулась, вместе с ней, казалось, улыбнулись и все ее веснушки (на носу и круглых щечках).
— Так ведь уроки, — протянула она. — Не получится.
— А мы — после…
— А на каких качелях, Леня? — встрепенулась Коноплева. — Для взрослых или для детей?
Качелей во дворе школы было несколько. На одних —покрашенных в голубой цвет лодках — катались уже повзрослевшие выпускники, а на других — с деревянными сиденьями, подвешенными на цепях — ребята поменьше.
— А на каких бы ты хотела? — Леня с сильно бьющимся сердцем тщательно пригладил торчащие вихры.
— На лодочке.., если можно, — тихо попросила девочка.
И, радуясь предстоящей встрече, Новгородцев согласно кивнул головой.
Последние уроки Леня слушал плохо, отвлекался, с нетерпением поглядывал на школьные часы. Стрелки на них словно замерли. Мальчик часто посматривал на Настин затылок с завязанными в узелок светлыми волосами, мечтая о том, как они вместе приятно проведут время.
Наконец прозвенел долгожданный звонок с занятий, и все дети бросились в раздевалку. В этой суматохе, шуме и гаме, Леня старался не упустить девочку, чтобы помочь ей отыскать куртку, сменную обувь и одеться самому.
…Они подошли к качелям. Там под самую перекладину уже высоко взлетали парни с визжащими от удовольствия девчатами. Одна из лодок оказалась свободной. Поочередно перенеся голенастые ноги, Настенька тотчас забралась в нее. За ней последовал и Леня. Одинакового роста, они стояли в лодке, держались за канаты и долго рассматривали друг друга, словно встретились впервые.
— Ну, что же ты! — весело окликнула Коноплева, медленно раскачиваясь. Леня наконец очнулся от наваждения, и вот уже совместными усилиями подросших третьеклассников лодка стала постепенно набирать скорость и высоту.
Судно тихонько поскрипывало. Новгородцев приседал, старался изо всех сил. Ему хотелось, чтобы Настенька взлетала в лодке все выше и выше и поднялась к самым облакам, где маленькой точкой светился в небе самолет.
Лицо Коноплевой сделалось притягательно-красивым. Настя была довольна. Ее юбка то плотно облегала узкие коленки, то надувалась шаловливым ветром. Сиреневый шарф под белой курткой, будто живой парус, трепетал на тонкой, девчоночьей шее…
Примерно через час по шуршащим, осенним листьям, густо покрывавшим длинную деревенскую улицу, они подошли наконец к ее новому жилью на окраине поселка. Дом был большой, с приусадебным участком, окруженным низким забором. Оба остановились у калитки.
— Спасибо тебе, Леня, за все, за все! — Настя с теплотой посмотрела на него.
А Леня, еще полный ярких впечатлений от свидания с девочкой, с интересом разглядывал ее веснушки.
— Ну дотронься, раз тебе так хочется, дотронься, — позволила Настя, вспомнив о его давней просьбе.
— Только закрой, пожалуйста, глаза, — нерешительно попросил паренек.
Леня дотронулся, но не рукой, как предполагала Настя, а легонько прикоснулся губами к ее теплому носу.
Коноплева все поняла. Она закрыла лицо ладонями, ее щеки запылали румянцем, словно обожженные костром. Ей было приятно, но почему-то и стыдно.
— Не делай так больше, Леня! Мы с тобой еще совсем, совсем дети.., — входя в открытую калитку тихо проговорила она.
3.
В тот поздний осенний вечер Новгородцев долго не мог заснуть. Глядя в низкий, побеленный потолок, он вновь и вновь представлял Настеньку то на школьных качелях, то изящно — мягко прыгающую через лужицу с портфелем в руке, то свой первый неумелый поцелуй…
У приемных родителей, по словам Насти, ей жилось нормально. Она теперь приходила в школу в модной одежде и обуви, что-то объясняя подружкам, дарила им разные безделушки.
«Настя, наверное, сейчас сидит за уроками в большой, светлой и теплой комнате… Не как в нашем детдоме», — завидуя ей, фантазировал мальчик.
Новгородцев огляделся: тускло светил ночник; в углу под потолком неподвижно притаился рыжий таракан. Пахло мокрыми полами. В коридоре гремела пустыми ведрами уборщица тетя Нюра. За окном завывал ветер, навевая тоску.
По левую сторону от Лени, раскрывшись, в трусах и майке, миролюбиво посапывал носом Витька Шмель, справа — в ожидании нового хозяина – пустовала заправленная койка бывшего детдомовца Сережи Солнцева. На остальных пяти кроватях спали новенькие.
Леня неуклюже потянулся к тумбочке за книгой «Сын полка», чтобы почитать, но та неожиданно свалилась на пол. В комнату на шум прибежала уборщица. В детдоме она работала давно, и Леня помнил ее, еще будучи совсем маленьким. Тетя Нюра часто угощала детей своими вкусными пирожками с морковью, вздыхала и ласково гладила ребят по голове, называя их горемыками. Она не раз говорила, что усыновила бы Новгородцева, но что сделать это ей не позволял солидный возраст и маленькая пенсия…
— Ты чего, Леня, расшумелся-то? — участливо спросила она. — Спи, милок, и ни о чем таком плохом не думай. Все образуется… Попробуй до ста посчитать. Авось, сон-то и придет.
Тетя Нюра неторопливо осмотрела длинную, узкую спальню:
— Двое вас всего горемычных из стареньких осталось-то.., —прошептала уборщица. Она тяжело вздохнула, подняла руку к лицу, что-то там вытерла, перекрестила их с Витькой. И, приговаривая, «Помоги им, Господи…» — направилась к выходу.
Целый месяц Леня с Настей гуляли вместе. Они пели в хоре, помогали друг другу делать уроки, ходили на окраину леса по грибы, рвали дикую ягоду. Вдвоем им не было скучно. Но Настины родители решили переехать в Краснодарский край, где потеплее, и вскоре их следы навсегда затерялись в южной полосе России.
«Интересно, вышла ли Коноплева замуж и где обитает сейчас?» — улыбаясь размышлял артист, стоя у окна из белоснежного пластика.
***
Между тем за ним пришли. Ректор консерватории уважительно взял его под руку и через весь зал провёл за кулисы. Здесь его дожидалась аккомпаниатор — дородная, красивая дама, в белом кружевном платье с короткими, до локтей, рукавами.
Зал был полон, зрительские аплодисменты поторапливали, и вот уже ректор консерватории, выйдя на сцену с Барсуковым, сказал много теплых слов в его адрес…
4.
Устав от бесконечных телесериалов с убийствами и кровавыми, дикими разборками, Туманова часто посещала бесплатные благотворительные вечера. На них Вера Андреевна расслаблялась душой и телом, а сидя в мягких, глубоких креслах, полностью отдавалась музыке. Она любила благоговейную, почти церковную тишину зала, его неторопливое наполнение народом. Ей нравилось абсолютно всё, что составляло прелюдию любого очередного концерта, с интересом следила за происходящим на сцене: как выкатывают рояль, как по одному появляются музыканты из оркестра, тихонько настраивающие свои инструменты, наблюдала за дирижёром и ведущим с микрофоном в петлице.
Высокие окна, зашторенные белым шёлком, зажжённые светильники, чем-то напоминающие длинные церковные свечи, и многие другие атрибуты вместительного зала подчёркивали важность предстоящего торжества. Со стен консерватории из белых овалов смотрели Бах и Шуберт, Лист и Гендель, Чайковский и Римский-Корсаков, без гениальных произведений которых немыслима культурная жизнь крупнейшего города. Казалось, они незримо присутствуют рядом и только ожидают взмаха дирижёрской палочки, чтобы покорить сердца пришедших сюда людей, а затем выпустить их из своего плена уже совершенно другими — мягкими и добрыми.
Слушая романсы, арии, сонату «Двадцать три» Бетховена, «Рассвет над Москва-рекой» Мусоргского и другие вещи, Туманова незаметно погружалась в мир собственных грез и фантазий, порой забывая, где находится…
После концерта Вера Андреевна шла по городу, улыбалась прохожим, умиротворенно оглядывала зеленые деревья в парке, высокий шпиль Петропавловской крепости и закованную в гранит реку с многочисленными мостами красавца-Ленинграда.
5.
Обычно Туманова сидела под сводами широкого балкона, подпираемого двумя белыми лепными колоннадами. Но сегодня был аншлаг, свободных мест не оказалось, а Вера Андреевна запоздала, и ей поставили стул у самых дверей. Она обрадовалась и ему, поблагодарив знакомого служителя.
Барсуков пел превосходно — в этом она знала толк и теперь наслаждалась красивым голосом певца… Под тихую, приятную музыку, располагающую к себе, хорошо думалось, и Туманова, в который уже раз прокручивая в памяти свои отношения с Барышевым, вновь и вновь утверждалась в собственной правоте: развод был просто необходим. Они оказались людьми с разными взглядами на мир, мораль, культуру, на все то, что было близко, чем жила и дышала Вера Андреевна.
От подруг слыхала, что Барышев располнел, виски с усами поседели, но по-прежнему дьявольски красив. Давно женился, новой супруге изменяет, она же, бедная, все терпит. Вера так бы не смогла…
…Незаметно её мысли перенеслись на другое. Те несколько лет жизни, которые она отдала поселковой школе, многому её научили, сблизили с уважаемыми людьми. Она знала, что после её отъезда Сковородников наконец сошёлся с Сидоровной, что умер директор школы Столяров, Мотылев отбывал срок в заключении, а Дроздов подорвался на мине в Чечне.
6.
О его смерти Вера узнала уже возвратясь в Ленинград, и с неделю ходила по улицам как в воду опущенная. Что-то дрогнуло в душе и теперь трудно было себе представить: Дроздова больше нет.
Она не раз отказывала в танцах и ему, и Витьке Мотылю, наперебой приглашавших ее, не давая ни малейшего повода для серьезных отношений. Вера просто не видела в них подходящих женихов. Ей был смешон солдат, застенчиво смотрящий на нее, не знающий куда девать большие, крестьянские руки. Он то засовывал их в карман широченных брюк, то ежеминутно вынимал, держа за спиной и, опираясь на стенку, то поправлял съехавший берет, стараясь скрыть поблескивающую лысину.
Вера ни капельки не считала себя виноватой: не она же посылала его на верную гибель, разлучая с больной и одинокой матерью, не она же развязывала эту Чеченскую бойню. Но с его гибелью что-то в ней изменилось. И лысая голова солдата после армейской службы, и безрадостное лицо безработного человека, и не пропадающий интерес к ней, - теперь все это представало в новом свете.
Единственное письмо от Дроздова, пахнущее порохом, переданное ей накануне отъезда из поселка, оказалось завещанием воина. Оно тревожило, вызывая щемящее чувство неловкости перед павшим солдатом и его матерью.
…Низкого росточка женщина ожидала Туманову возле учительской, наверное, целый урок, а, увидев, по старинному поклонилась ей в пояс, пожелав доброго здоровьица. Вера Андреевна смутилась от такого обращения, пригласила в комнату.
—Сынок вот просил передать, — женщина с робостью протянула письмо.
—Да вы зайдите и сядьте. Что же вы так-то…, — растерялась Вера, заливаясь румянцем от того, что их отношения с сыном стали известны всем.
—Хороший он у меня, Вера Андреевна, — стремясь убедить ее в этом, поделилась Дроздова мягким голосом, идя следом. — И дров наколет, и воды наносит сколько надо, и за скотиной присмотрит. С ним беды не знаю…
Войдя наконец в учительскую, окинула взглядом пустую комнату, присела на краешек стула. Достав из пакета несколько фотографий, веером разложила на столе:
—Очень уважает он вас, доченька. Говорит, не знал, что такие девчонки на свете бывают: пригожие, да умныя… Глянь, и я бы вам сгодилась. Деток бы ваших воспитывала, нянчила. А ежели что, так Генка-то мой Леньку Новгородцева согласен из детдома взять…
Женщина придвинулась вплотную, дотронулась до Вериной руки, потом до фотографии, что поближе.
—А тутоньки на снимке Генка-то совсем маленький. Гляньте-ка, — продолжала Дроздова, от избытка чувств начиная посапывать носом. — И волосенки на головке густенькие. Не как теперь-то…
Вере Андреевне стало стыдно и неловко. Ее сейчас сватали — она не знала, куда спрятать глаза. Конечно, по человечески было жаль и солдата, и его мать, но она-то здесь причем? Хорошо еще — в учительской ни души — иначе засмеяли бы потом…
Выручил лишь школьный звонок на урок – короткий и резкий, как выстрел, избавивший ее от сухонькой просительницы.
—Я посмотрю. Я все прочту… и обязательно отвечу, — Туманова быстро собрала в стопку тетради, от смущения вновь заливаясь густым румянцем.
«Милая Верочка, —писал Дроздов. —Не ругайте, что называю так. Когда впервые увидел вас в клубе, я потерял голову. Ваша красота, сияющие глаза, стройная фигура, умение держаться — покорили. Ваше лицо до сих пор стоит передо мной. Скрывать не стану: хочется простого, человеческого счастья, быть рядом, любить вас, оберегать от всех бед… Но видно не судьба. Зачем вам такой милой, обаятельной, умной — неотесанный деревенский парень, к тому же безработный? Нисколько не обижусь, получив отказ. И вы, пожалуй, будете правы…»
…Дроздов писал о серых армейских буднях, о тяготах военной службы, когда смерть ходит по пятам, об ошибках командования…
«Пройдет время, —продолжал он, —вы вернетесь в большой, красивый город на Неве и больше не вспомните ни о таежном поселке, ни о лысом парне. Но знайте, если вам когда-нибудь станет худо, есть на свете человек, готовый жизнью пожертвовать ради любимой…
Высылаю на память веточку засохшей сирени. Она между страницами письма, если не затерялась в дороге. Я бы выслал и букет, да не все так просто!»
Эти искренние строки, идущие, казалось, от самого сердца, тронули. Вспомнилось, как Геннадий приобщил Леню к физическим упражнениям. Вера была благодарна ему. Тогда мальчик стал неузнаваем. Леня словно ожил. С утренней пробежки по лесу и купания в реке, он возвращался бодрый, его глаза блестели.
И все-таки Вера ответила отказом, признавая высокие душевные качества Дроздова. «Вот бы их Барышеву —этому эгоисту с холеным лицом и седыми усиками», — с сожалением подумала она о бывшем муже.
Вера не поехала на похороны, чтобы только не видеть заплаканного лица матери Дроздова, в истерике бившейся над гробом сына, не смогла бы выдержать укоризненных взглядов поселковых людей, наверняка считающих ее виноватой, если отказала такому уважаемому на селе парню.
***
…А та сухая веточка сирени не затерялась. До сих пор она стоит в ее вазочке среди живых цветов, напоминая о прошлом.
7.
Вера Андреевна не ведала, как сложилась судьба Лени Новгородцева, где он и что с ним. «Интересно, получил ли он квартиру, на которую имел полное право как детдомовец, или ее забрали себе очередные бюрократы и толстосумы?» — думала она.
Вспомнился бомж, которого видела вчера. Было позднее утро. Она собралась в магазин, а этот человек, в грязной, оборванной рубашке и поношенных брюках, видимо, ночевавший на их чердаке, спускался впереди по лестнице. Он шёл в полуботинках на босу ногу, и мелькали его голые грязные пятки.
Во дворе играли дети. Отец одной из девочек, оглядев его с ног до головы, с брезгливой опаской произнёс:
— Шел бы ты, дядя, отсюда… Только наших детей пугаешь, — добавил он, провожая того настороженным взглядом.
Бомж промолчал, лишь ускорил шаги, направляясь в арку, соединяющую двор с шумной улицей. Он ни разу не оглянулся, только кашлянул сиплым, простуженным голосом, а Туманова подумала, что этот загнанный жизнью несчастный человек, наверное, голоден, мечтает о кружке горячего чая и куске хлеба. А ведь вечером этому горемыке предстоят поиски нового ночлега.
«Быть может, и Леня Новгородцев, как этот бомж, также скитается где-нибудь по подвалам или чердакам, голодный и холодный…», — неожиданно пришло на ум и ей вдруг сделалось нехорошо.
8.
Вера Андреевна прислушалась к Барсукову: артист под аккомпанемент рояля уже исполнял другой романс: «Я плачу, я стражду. Душа истомилась в разлуке…» — с горечью выговаривал певец, и Туманова поразилась, насколько эти слова созвучны ее теперешнему настроению.
Весь зал рукоплескал баритону, лишь одинокая женщина в симпатичной шляпке, стоящая у дверей, молча и напряженно вглядывалась в артиста.
Лицо певца на афишах чем-то отдаленно напоминало ей Новгородцева и, если б не фамилия Барсуков да не сценическое одеяние, сильно меняющее внешность, она бы всерьез подумала, что это он.
...Когда Лёня немного подрос, на собранные в складчину деньги она купила ему гармонь, о которой мальчик мечтал. Вера Андреевна часто просила паренька исполнить полюбившуюся ей песню, и Новгородцев ни разу ей не отказывал.
И тут артист, поставив баян на колени и аккомпанируя себе, неожиданно запел ее, будто догадавшись о желании любимой учительницы.
Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно: на улице где-то
Одинокая бродит гармонь…
Это, конечно, был Лёня! Тот самый, которого она когда-то учила грамоте, одевала, обувала, водила в музыкалку, считала своим сыном. И она теперь с тихой и горделивой улыбкой поглядывала на людей, словно желая поведать всем, что эта знаменитость – близкий ей, родной человек! И Лёня сейчас играл для неё!
А проникновенная, с грустинкой мелодия заполнила весь зал и, наверное, вышла за его пределы, потому что двери распахнулись шире, и вот уже новые слушатели заняли узкий проход, загораживая сцену.
У Веры Андреевны, стоящей рядом со стулом, ослабели ноги, она присела, вытирая вспотевшее от духоты лицо. «Лёня, наверное, начнёт искать меня в Ленинграде», — пронеслось у неё в голове. «Не дай Бог увидит, какая я старая да беспомощная!» — с ужасом подумала Туманова, решив ни за что ему не открываться.
А Леонид Павлович продолжал петь и играть. Музыкант то уходил в сторону от мелодии, то возвращался к ней, неожиданно меняя тональность.
Басовая партия была превосходной. Казалось, играет не баянист, а какой-то невидимый залу органист. И эта чарующая душу музыка вызывала у слушателей необычайное состояние, при котором кое-кто покачивал туда-сюда головой, кто-то сидел с закрытыми глазами, а кто-то, вытянув шею, хотел хоть на чуть-чуть приблизиться к талантливому мастеру, чья вдохновенная игра и красивый голос, казалось, выходили за рамки возможного:
Может, радость твоя недалеко,
Да не знаю, ее ли ты ждешь?
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко?
Что ж ты девушкам спать не даешь? —
вопрошал певец, в голосе которого звучала неподдельная тоска по чему-то несбывшемуся.
Успех Барсукова был очевиден. Своим талантом артист притягивал к себе людей. Его хотелось слушать и слушать до бесконечности. Великолепное исполнение хорошей, почти забытой всеми песни завораживало доверительной интонацией, горькой правдой, лиризмом, создавая в зале атмосферу всеобщей любви, близкого человеческого счастья …
Барсукова долго не отпускали со сцены. Под бурю аплодисментов к нему спешили люди с цветами, а сам артист, поставив баян, кланялся налево и направо. Он открыто улыбался и только душевно произносил одно единственное слово: «Спасибо, спасибо…».
Туманова была потрясена встречей с Новгородцевым. Совершенно потеряв контроль над собой в почти опустевшем зале, она едва не пропустила идущих молодых людей с Барсуковым впереди.
— Леня! — не удержавшись, окликнула его, поспешно убирая под шляпку седину.
Но артист проследовал дальше, и лишь полный господин с тяжелым футляром, где хранился баян, чуть поотстал, сменяя уставшую руку.
— Тебе чего, бабуль? — недовольно бросил он сидящей в проходе старушке, посмевшей нарушить такой их благостный настрой.
Но Леонид Павлович, услыхав свое имя, быстро возвратился.
— Вера Андреевна! Голубушка! Вы ли это? Боже мой! — журчащим баритоном воскликнула знаменитость с розами в руках.
Туманова медленно поднялась и со словами: «Здравствуй, Леня!» — прильнула к его широкой груди в белой манишке.
— Вера Андреевна, успокойтесь, милая, — растерянно улыбался артист.
Когда она пришла в себя, то долго вглядывалась в крупное, мужественное лицо Новгородцева, стараясь отыскать в нем прежние, знакомые ей черты. Нижняя челюсть у Лени слегка удлинилась, подбородок округлился — лишь голубые, небесного цвета глаза оставались все теми же незабудками…
— Ну, а теперь, Леня, — в гости ко мне! — тихо предложила Туманова. — Нам есть, что рассказать друг другу. Не правда ли?
 СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ